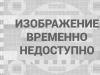Князь Василий Васильевич Голицын
Василий Васильевич Голицын.
Гравюра 1689 г.
Младшим из предшественников Петра был князь В. В. Голицын, и он уходил от действительности гораздо дальше старших. Еще молодой человек, он был уже видным лицом в правительственном кругу при царе Федоре и стал одним из самых влиятельных людей при царевне Софье, когда она, по смерти старшего брата, сделалась правительницей государства. Властолюбивая и образованная царевна не могла не заметить умного и образованного боярина, и князь Голицын личной дружбой связал свою политическую карьеру с этой царевной.
Голицын был горячий поклонник Запада, для которого он отрешился от многих заветных преданий русской старины. Подобно Нащокину, он бегло говорил по-латыни и по-польски. В его обширном московском доме, который иноземцы считали одним из великолепнейших в Европе, все было устроено на европейский лад: в больших залах простенки между окнами были заставлены большими зеркалами, по стенам висели картины, портреты русских и иноземных государей и немецкие географические карты в золоченых рамах; на потолках нарисована была планетная система; множество часов и термометр художественной работы довершали убранство комнат. У Голицына была значительная и разнообразная библиотека из рукописных и печатных книг на русском, польском и немецком языках. Здесь между грамматиками польского и латинского языков стояли «Киевский летописец», немецкая геометрия, Алкоран в переводе с польского, четыре рукописи о строении комедий, рукопись Юрия Сербенина (Крижанича). Дом Голицына был местом встречи для образованных иностранцев, попадавших в Москву, и в гостеприимстве к ним хозяин шел дальше других московских любителей иноземного, принимал даже иезуитов, с которыми те не могли мириться.
Разумеется, такой человек мог стоять только на стороне преобразовательного движения – и именно в латинском, западноевропейском, не лихудовском направлении. Один из преемников Ордин-Нащокина по управлению Посольским приказом, князь Голицын развивал идеи своего предшественника. При его содействии состоялся в 1686 г. Московский договор о вечном мире с Польшей. По нему Московское государство приняло участие в коалиционной борьбе с Турцией в союзе с Польшей, Германской империей и Венецией. Этим оно формально вступило в концерн европейских держав, за что Польша навсегда утверждала за Москвой Киев и другие московские приобретения, временно уступленные по Андрусовскому перемирию.
И в вопросах внутренней политики князь Голицын шел впереди прежних дельцов преобразовательного направления. Еще при царе Федоре он был председателем комиссии, которой поручено было составить план преобразования московского военного строя. Эта комиссия предложила ввести немецкий строй в русское войско и отменить местничество (закон 12 января 1682 г.). Голицын без умолку твердил боярам о необходимости учить своих детей, выхлопотал разрешение посылать их в польские школы, советовал приглашать польских гувернеров для их образования. Несомненно, широкие преобразовательные планы роились в его голове. Жаль, что мы знаем только их обрывки или неясные очерки, записанные иностранцем Невиллем, польским посланцем, приехавшим в Москву в 1689 г. незадолго до падения Софьи и Голицына. Невилль видался с князем, говорил с ним по-латыни о современных политических событиях, особенно об Английской революции, мог от него кое-что слышать о положении дел в Москве и тщательно собирал о нем московские слухи и сведения.
Голицына сильно занимал вопрос о московском войске, недостатки которого он хорошо изведал, не раз командуя полками. Он, по словам Невилля, хотел, чтобы дворянство ездило за границу и обучалось там военному искусству. Он думал заменить хорошими солдатами взятых в даточные и непригодных к делу крестьян, земли которых оставались без обработки на время войны. Взамен их бесполезной службы, обложить крестьянство умеренной поголовной податью. Значит, даточные рекруты из холопов и тяглых людей, которыми пополняли дворянские полки, устранялись, и армия, вопреки мысли Ордин-Нащокина, сохраняла строго сословный дворянский состав с регулярным строем под командой обученных военному делу офицеров из дворян же.
Военно-техническая реформа в мыслях Голицына соединялась с переворотом социально-экономическим. Преобразование государства Голицын думал начать освобождением крестьян, предоставив им обрабатываемые ими земли с выгодой для царя, т. е. казны, посредством ежегодной подати, что, по его расчету, увеличивало доход казны более чем наполовину. Иноземец кое-чего недослышал и не объяснил условий этой поземельной операции. Так как на дворянах оставалась обязательная и наследственная военная служба, то, по всей вероятности, насчет поземельного государственного оброка с крестьян предполагалось увеличить дворянские оклады денежного жалованья, которые должны были служить вознаграждением за потерянные помещиками доходы с крестьян и за отошедшие к ним земли.
Таким образом, по плану Голицына операция выкупа крепостного труда и надельной земли крестьян совершалась посредством замены капитальной выкупной суммы непрерывным доходом служилых землевладельцев, получаемым от казны в виде возвышенного жалованья за службу. При этом не стесненный законом помещичий произвол в эксплуатации крепостного труда заменялся определенным поземельным казенным налогом. Подобные мысли о разрешении крепостного вопроса стали возвращаться в русские государственные умы не раньше как полтора века спустя после Голицына.

Прения о вере в Грановитой палате (1682 г.)
Много другого слышал Невилль о планах этого вельможи, но, не передавая всего слышанного, иноземец ограничивается общим, несколько идилличным отзывом: «Если бы я захотел написать все, что узнал об этом князе, я никогда бы не кончил. Достаточно сказать, что он хотел населить пустыни, обогатить нищих, дикарей превратить в людей, трусов в храбрецов, пастушечьи шалаши в каменные палаты». Читая рассказы Невилля в его донесении о Московии, можно подивиться смелости преобразовательных замыслов «великого Голицына», как величает его автор. Эти замыслы, переданные иностранцем отрывочно без внутренней связи, показывают, однако, что в основании их лежал широкий и, по-видимому, довольно обдуманный план реформ, касавшийся не только административного и экономического порядка, но и сословного устройства государства и даже народного просвещения. Конечно, это были мечты, домашние разговоры с близкими людьми, а не законодательные проекты.
Личные отношения князя Голицына не дали ему возможности даже начать практическую разработку своих преобразовательных замыслов. Связав свою судьбу с царевной Софьей, он пал вместе с нею и не принимал участия в преобразовательной деятельности Петра, хотя был ближайшим его предшественником и мог бы быть хорошим его сотрудником, если не лучшим. В законодательстве слабо отразился дух его планов: смягчены условия холопства за долги, отменены закапывание мужеубийц и смертная казнь за возмутительные слова. Усиление карательных мер против старообрядцев нельзя ставить целиком насчет правительства царевны Софьи: то было профессиональное занятие церковных властей, в котором государственному управлению приходилось обыкновенно служить лишь карательным орудием. К тому времени церковные гонения вырастили в старообрядческой среде изуверов, по слову которых тысячи совращенных жгли себя ради спасения своих душ, а церковные пастыри ради того же жгли проповедников самосожжения. Ничего не могло сделать и для крепостных крестьян правительство царевны, пристращавшей буйных стрельцов дворянами, пока не явилась возможность припугнуть дворян стрельцами и казаками.

Письмо царевны Софьи к князю В. В. Голицыну в 1689 г.
Однако несправедливо было бы отрицать участие идей Голицына в государственной жизни; только его надо искать не в новых законах, а в общем характере семилетнего правления царевны. Свояк и шурин царя Петра, следовательно, противник Софьи, князь Б. И. Куракин оставил в своих записках замечательный отзыв об этом правлении. «Правление царевны Софьи Алексеевны началось со всякою прилежностью и правосудием всем и ко удовольству народному, так что никогда такого мудрого правления в Российском государстве не было; и все государство пришло во время ее правления через семь лет в цвет великого богатства, также умножилась коммерция и всякие ремесла, и науки почали быть восставлять латинского и греческого языку… И торжествовала тогда довольность народная». Свидетельство Куракина о «цвете великого богатства», по-видимому, подтверждается и известием Невилля, что в деревянной Москве, считавшей тогда в себе до полумиллиона жителей, в министерство Голицына построено было более трех тысяч каменных домов. Неосторожно было бы подумать, что сама Софья своим образом действий вынудила у противника такой хвалебный отзыв о своем правлении. Эта тучная и некрасивая полудевица с большой неуклюжей головой, грубым лицом, широкой и короткой талией, в 25 лет казавшаяся 40-летней, властолюбию пожертвовала совестью, а темпераменту стыдом. Но, достигнув власти путем постыдных интриг и кровавых преступлений, она, как принцесса «великого ума и великий политик», по словам того же Куракина, нуждаясь в оправдании своего захвата, способна была внимать советам своего первого министра и «голанта», тоже человека «ума великого и любимого от всех». Он окружил себя сотрудниками, вполне ему преданными, все незнатными, но дельными людьми вроде Неплюева, Касогова, Змеева, Украинцева, с которыми и достиг отмеченных Куракиным правительственных успехов.
Продолжатель Ордин-Нащокина . Князь Голицын был прямым продолжателем Ордин-Нащокина. Как человек другого поколения и воспитания, он шел дальше последнего в своих преобразовательных планах. Он не обладал ни умом Нащокина, ни его правительственными талантами и деловым навыком, но был книжно образованнее его, меньше его работал, но больше размышлял. Мысль Голицына, менее сдерживаемая опытом, была смелее, глубже проникала в существующий порядок, касаясь самых его оснований. Его мышление было освоено с общими вопросами о государстве, его задачах, строении и складе общества. Недаром в его библиотеке находилась какая-то рукопись «О гражданском житии, или О поправлении всех дел, яже належат обще народу». Он не довольствовался, подобно Нащокину, административными и экономическими реформами, а думал о распространении просвещения и веротерпимости, свободе совести, свободном въезде иноземцев в Россию, улучшении социального строя и нравственного быта. Его планы шире, отважнее проектов Нащокина, но зато идилличнее их.
Представители двух смежных поколений, оба они были родоначальниками двух типов государственных людей, выступающих у нас в XVIII в. Все эти люди были либо нащокинского, либо голицынского пошиба. Нащокин – родоначальник практических дельцов Петрова времени; в Голицыне заметны черты либерального и несколько мечтательного екатерининского вельможи.
Подготовка и программа реформы . Мы видели, с какими колебаниями шла подготовка реформы. Русские люди XVII в. делали шаг вперед и потом останавливались, чтобы подумать, что они сделали, не слишком ли далеко шагнули. Судорожное движение вперед и раздумье с пугливой оглядкой назад – так можно обозначить культурную походку русского общества в XVII в. Обдумывая каждый свой шаг, они прошли меньше, чем сами думали. Мысль о реформе вызвана была в них потребностями народной обороны и государственной казны. Эти потребности требовали обширных преобразований в государственном устройстве и хозяйственном быту, в организации народного труда. В том и другом деле люди XVII в. ограничились робкими попытками и нерешительными заимствованиями у Запада.
Но среди этих попыток и заимствований они много спорили, бранились и в этих спорах кое о чем подумали. Их военные и хозяйственные нужды столкнулись с их заветными верованиями и закоренелыми привычками, вековыми предрассудками. Оказалось, что им нужно больше, чем они могут и хотят, чем подготовлены сделать, что для обеспечения своего политического и экономического существования им необходимо переделать свои понятия и чувства, все свое миросозерцание. Так они очутились в неловком положении людей, отставших от собственных потребностей. Им понадобилось техническое знание, военное и промышленное, а они не только не имели его, но и были дотоле убеждены, что оно ненужно и даже греховно, потому что не ведет к душевному спасению. Каких же успехов достигли они в этой двойной борьбе со своими нуждами и с самими собой, со своими собственными предубеждениями?
Для удовлетворения своих материальных нужд они в государственном порядке произвели не особенно много удачных перемен. Они нанимали несколько тысяч иноземцев, офицеров, солдат и мастеров. С их помощью кое-как поставили значительную часть своей рати на регулярную ногу, и то плохую, без надлежащих приспособлений, и построили несколько фабрик и оружейных заводов. А с помощью этой подправленной рати и этих заводов, после больших хлопот и усилий, с трудом вернули две потерянные области, Смоленскую и Северскую, и едва удержали в своих руках половину добровольно отдавшейся им Малороссии. Вот и все существенные плоды их 70-летних жертв и усилий!
Государственного порядка они не улучшили, напротив, сделали его тяжелее прежнего, отказавшись от земского самоуправления, обособлением сословий усилив общественную рознь и пожертвовав свободой крестьянского труда. Зато в борьбе с самими собой, своими привычками и предубеждениями они одержали несколько важных побед, облегчивших эту борьбу дальнейшим поколениям. Это была их бесспорная заслуга в деле подготовки реформы. Они подготовляли не столько самую реформу, сколько себя самих, свои умы и совести к этой реформе, а это менее видная, но не менее трудная и необходимая работа. Попытаюсь обозначить в коротком перечне эти их умственные и нравственные завоевания.
Во-первых, они сознались, что многого не знали из того, что нужно знать. Это была самая трудная победа их над собой, своим самолюбием и своим прошедшим. Древнерусская мысль усиленно работала над вопросами нравственно-религиозного порядка, дисциплиной совести и воли, покорением ума в послушание вере, тем, что считалось спасением души. Но она пренебрегала условиями земного существования, видя в нем законное царство судьбы и греха, и потому с бессильною покорностью отдавала его на произвол грубого инстинкта. Она сомневалась, как это можно внести и стоит ли вносить добро в земной мир, который по Писанию во зле лежит, следовательно, и обречен во зле лежать. Она была убеждена, что наличный житейский порядок так же мало зависит от человеческих усилий, так же неизменен, как и порядок мировой. Вот эту веру в роковую неизменность житейского порядка и начало колебать двустороннее влияние, шедшее изнутри и извне.
Внутреннее влияние исходило из потрясений, испытанных государством в XVII в. Смутное время впервые и больно ударило по сонным русским умам, заставило способных мыслить людей раскрыть глаза на окружающее, взглянуть прямым и ясным взглядом на свою жизнь. У писателей того времени, у келаря А. Палицына, у дьяка И. Тимофеева, у князя И. Хворостинина ярко просвечивает то, что можно назвать исторической мыслью, наклонность вникнуть в условия русской жизни, в самые основы сложившихся общественных отношений, чтобы здесь найти причины пережитых бедствий. И после Смуты до конца века все увеличивавшиеся государственные тягости поддерживали эту наклонность, питая недовольство, прорывавшееся в ряде мятежей.
На земских соборах и в особых совещаниях с правительством выборные люди, указывая на всяческие непорядки, обнаруживали вдумчивое понимание печальной действительности в предлагаемых средствах ее исправления. Очевидно, мысль тронулась и пыталась повлечь за собою застоявшуюся жизнь, не видя в ней более свыше установленного неприкосновенного порядка. С другой стороны, западное влияние приносило к нам понятия, направлявшие мысль на условия и удобства именно земного общежития и ставившие его усовершенствование самостоятельной и важной задачей государства и общества. Но для этого нужны были знания, каких не имела и которыми пренебрегала Древняя Русь, особенно изучение природы и того, чем она может служить потребностям человека: отсюда усиленный интерес русского общества XVII в. к космографическим и другим подобным сочинениям. Само правительство поддерживало этот интерес, начиная подумывать о разработке нетронутых богатств страны, разыскивая всякие минералы, для чего требовалось то же знание.

А. Васнецов. Книжные лавочки на Спасском мосту в XVII веке. 1916 г.
Новое веяние захватывало даже таких слабых людей, как царь Федор, слывший за великого любителя всяких наук, особенно математических, и, по свидетельству Сильвестра Медведева, заботившийся не только о богословском, но и о техническом образовании. Он собирал в свои царские мастерские «художников всякого мастерства и рукоделия», платил им хорошее жалованье и сам прилежно следил за их работами. Мысль о необходимости такого знания с конца XVII в. становится господствующей идеей передовых людей нашего общества, жалобы на его отсутствие в России – общим местом в изображении ее состояния. Не подумайте, что это сознание или эта жалоба тотчас повели к усвоению понадобившегося знания, что это знание, став очередным вопросом, скоро превратилось в насущную потребность. Далеко нет: у нас необыкновенно долго и осторожно собирались приступить к решению этого вопроса.
Во весь XVIII в. и большую часть XIX в. размышляли и спорили о том, какое знание пригодно нам и какое опасно. Но пробудившаяся потребность ума скоро изменила отношение к существующему житейскому порядку. Как скоро освоились с мыслью, что помощью знания можно устроить жизнь лучше, чем она идет, тотчас стала падать уверенность в неизменности житейского порядка. И возникло желание устроиться так, чтобы жилось лучше. Возникло это желание прежде, чем успели узнать, как это устроить. В знание уверовали прежде, чем успели овладеть им. Тогда принялись пересматривать все углы существующего порядка и, как в доме, давно не ремонтированном, всюду находили запущенность, ветхость, сор, недосмотры. Стороны жизни, казавшиеся прежде наиболее крепкими, перестали возбуждать доверие к своей прочности. До сих пор считали себя сильными верой, которая без грамматики и риторики способна постигать разум Христов, а восточный иерарх Паисий Лигарид указывал на необходимость школьного образования для борьбы с расколом. И русский патриарх Иоаким, вторя ему, в направленном против раскола сочинении писал, что многие и из благочестивых людей уклонились в раскол по скудости ума, недостатку образования.

Печатный двор в Москве, на Никольской улице, в конце XVII века.
По рисунку конца XVII в.
Так ум, образование были признаны опорами благочестия. Переводчик Посольского приказа Фирсов в 1683 г. перевел Псалтырь. И этот чиновничек Министерства иностранных дел признает необходимым обновить церковный порядок помощью знания. «Наш российский народ, – пишет он, – грубый и неученый; не только простые, но и духовного чина люди истинные ведомости и разума и Святого Писания не ищут, ученых людей поносят и еретиками называют».
В пробуждении этой простодушной веры в науку и этой доверчивой надежды с ее помощью все исправить, по моему мнению, и заключался главный нравственный успех в деле подготовки реформы Петра Великого. Этой верой и надеждой руководился в своей деятельности и преобразователь. Та же вера поддерживала нас и после преобразователя всякий раз, когда мы, изнемогая в погоне за успехами Западной Европы, готовы были упасть с мыслью, что мы не рождены для цивилизации, и с ожесточением бросались в самоуничижение.
Но эти нравственные приобретения достались людям XVII в. не даром, внесли новый разлад в общество. До той поры русское общество жило влияниями туземного происхождения, условиями своей собственной жизни и указаниями природы своей страны. Когда на это общество повеяла иноземная культура, богатая опытами и знаниями, она, встретившись с доморощенными порядками, вступила с ними в борьбу, волнуя русских людей, путая их понятия и привычки, осложняя их жизнь, сообщая ей усиленное и неровное движение. Производя в умах брожение притоком новых понятий и интересов, иноземное влияние уже в XVII в. вызвало явление, которое еще более запутывало русскую жизнь. До тех пор русское общество отличалось однородностью, цельностью своего нравственно-религиозного состава.
При всем различии общественных положений древнерусские люди по своему духовному облику были очень похожи друг на друга, утоляли свои духовные потребности из одних и тех же источников. Боярин и холоп, грамотей и безграмотный запоминали неодинаковое количество священных текстов, молитв, церковных песнопений и мирских бесовских песен, сказок, старинных преданий, неодинаково ясно понимали вещи, неодинаково строго заучивали свой житейский катехизис. Но они твердили один и тот же катехизис, в положенное время одинаково легкомысленно грешили и с одинаковым страхом Божиим приступали к покаянию и причащению до ближайшего разрешения «на вся».
Такие однообразные изгибы автоматической совести помогали древнерусским людям хорошо понимать друг друга, составлять однородную нравственную массу. Они устанавливали между ними некоторое духовное согласие, вопреки социальной розни, и делали сменяющиеся поколения периодическим повторением раз установившегося типа. Как в царских палатах и боярских хоромах затейливой резьбой и позолотой прикрывался простенький архитектурный план крестьянской деревянной избы, так и в вычурном изложении русского книжника XVI–XVII вв. проглядывает непритязательное наследственное духовное содержание «сельского невегласа, проста умом, простейша же разумом».
Западное влияние разрушило эту нравственную цельность древнерусского общества. Оно не проникало в народ глубоко, но в верхних его классах, по самому положению своему наиболее открытых для внешних веяний, оно постепенно приобретало господство. Как трескается стекло, неравномерно нагреваемое в разных своих частях, так и русское общество, неодинаково проникаясь западным влиянием во всех своих слоях, раскололось. Раскол, происшедший в Русской церкви XVII в., был церковным отражением этого нравственного раздвоения русского общества под действием западной культуры. Тогда стали у нас друг против друга два миросозерцания, два враждебных порядка понятий и чувств. Русское общество разделилось на два лагеря, на почитателей родной старины и приверженцев новизны, т. е. иноземного, западного.
Руководящие классы общества, оставшиеся в ограде Православной церкви, стали проникаться равнодушием к родной старине, во имя которой ратовал раскол, и тем легче отдавались иноземному влиянию. Старообрядцы, выкинутые за церковную ограду, стали тем упорнее ненавидеть привозные новшества, приписывая им порчу древнеправославной Русской церкви. Это равнодушие одних и эта ненависть других вошли в духовный состав русского общества как новые пружины, осложнившие общественное движение, тянувшие людей в разные стороны.
Особенно счастливым условием для успеха преобразовательных стремлений надобно признать деятельное участие отдельных лиц в их распространении. То были последние и лучшие люди Древней Руси, положившие свой отпечаток на стремления, которые они впервые проводили или только поддерживали. Царь Алексей Михайлович пробудил общее и смутное влечение к новизне и усовершенствованию, не порывая с родной стариной. Благодушно благословляя преобразовательные начинания, он приручал к ним пугливую русскую мысль, самым своим благодушием заставляя верить в их нравственную безопасность и не терять веры в свои силы.
Боярин Ордин-Нащокин не отличался ни таким благодушием, ни набожной привязанностью к родной старине и своим неугомонным ворчанием на все русское мог нагнать тоску и уныние, заставить опустить руки. Но его честная энергия невольно увлекала, а его светлый ум сообщал смутным преобразовательным порывам и помыслам вид таких простых, отчетливых и убедительных планов, в разумность и исполнимость которых хотелось верить, польза которых была всем очевидна. Из его указаний, предположений и опытов впервые стала складываться цельная преобразовательная программа, не широкая, но довольно отчетливая программа реформы административной и народнохозяйственной. Другие, менее видные дельцы, пополняли эту программу, внося в нее новые мотивы или распространяя ее на другие сферы государственной и народной жизни, и таким образом подвигали дело реформы. Ртищев пытался внести нравственный мотив в государственное управление и возбудил вопрос об устройстве общественной благотворительности. Князь Голицын мечтательными толками о необходимости разносторонних преобразований будил дремавшую мысль правящего класса, признававшего существующий порядок вполне удовлетворительным.
Этим я заканчиваю обзор явлений XVII в. Он весь был эпохой, подготовлявшей преобразования Петра Великого. Мы изучили дела и видели ряд людей, воспитанных новыми веяниями XVII в. Но это были лишь наиболее выдававшиеся люди преобразовательного направления, за которыми стояли другие, менее крупные: бояре Б. И. Морозов, Н. И. Романов, А. С. Матвеев, целая фаланга киевских ученых и в стороне – пришлец и изгнанник Юрий Крижанич. Каждый из этих дельцов, стоявших в первом и втором ряду, проводил какую-нибудь преобразовательную тенденцию, развивал какую-нибудь новую мысль, иногда целый ряд новых мыслей. Судя по ним, можно подивиться обилию преобразовательных идей, накопившихся в возбужденных умах того мятежного века. Эти идеи развивались наскоро, без взаимной связи, общего плана, но, сопоставив их, видим, что они складываются сами собой в довольно стройную преобразовательную программу, в которой вопросы внешней политики сцеплялись с вопросами военными, финансовыми, экономическими, социальными, образовательными.
Вот важнейшие части этой программы: 1) мир и даже союз с Польшей; 2) борьба со Швецией за восточный балтийский берег, с Турцией и Крымом за Южную Россию; 3)завершение переустройства войска в регулярную армию; 4) замена старой сложной системы прямых налогов двумя податями, подушной и поземельной; 5) развитие внешней торговли и внутренней обрабатывающей промышленности; 6) введение городского самоуправления с целью подъема производительности и благосостояния торгово-промышленного класса; 7) освобождение крепостных крестьян с землей; 8) заведение школ не только общеобразовательных с церковным характером, но и технических, приспособленных к нуждам государства, – и все это по иноземным образцам и даже с помощью иноземных руководителей. Легко заметить, что совокупность этих преобразовательных задач есть не что иное, как преобразовательная программа Петра. Эта программа была вся готова еще до начала деятельности преобразователя. В том и состоит значение московских государственных людей XVII в. Они не только создали атмосферу, в которой вырос и которой дышал преобразователь, но и начертали программу его деятельности, в некоторых отношениях шедшую даже дальше того, что он сделал.
Из книги Новейшая книга фактов. Том 3 [Физика, химия и техника. История и археология. Разное] автора Кондрашов Анатолий Павлович Из книги История России от Рюрика до Путина. Люди. События. Даты автора Анисимов Евгений ВикторовичКнязь Василий Голицын Последние годы регентства Софьи первое место в управлении занимал князь Василий Васильевич Голицын (1643-1714). Он выдвинулся при царе Федоре, а при Софье стал первым министром. Знающий три языка, поклонник западной культуры, Голицын жил в доме,
автора Ключевский Василий ОсиповичВасилий Васильевич Голицын (1643–1714 годы) Другим предшественником Петра мог стать Голицын, довольно молодой человек, который и жил, и одевался, и думал как европеец, но которого угораздило в борьбе царских детей за трон принять сторону Софьи. Голицын всячески проводил
Из книги Учебник русской истории автора Платонов Сергей Федорович§ 45. Великие князья Василий I Дмитриевич и Василий II Васильевич Темный Донской умер всего 39-ти лет и оставил после себя нескольких сыновей. Старшего, Василия, он благословил великим княжением Владимирским и оставил ему часть в Московском уделе; остальным сыновьям он
Из книги Полный курс русской истории: в одной книге [в современном изложении] автора Соловьев Сергей МихайловичКнязь Василий Васильевич Темный (1425–1462 годы) У юного князя было довольно соперников, которые могли претендовать на московский стол по старшинству. Так что для того, чтобы не затевать междоусобицы, Василий и его дядя Юрий поехали в Орду. Юрий боялся переговоров и считал,
Из книги 100 великих аристократов автора Лубченков Юрий НиколаевичВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГОЛИЦЫН (1643-1714) Князь, русский государственный деятель. Княжеский род Голицыных ведет свою родословную от потомков великого литовского князя Гедимина. Ранняя история этой древнейшей российской династии нашла отражение в родовом гербе Голицыных. Он
Из книги Русский Галантный век в лицах и сюжетах. Kнига первая автора Бердников Лев Иосифович Из книги Алфавитно-справочный перечень государей русских и замечательнейших особ их крови автора Хмыров Михаил Дмитриевич44. ВАСИЛИЙ II ВАСИЛЬЕВИЧ, прозванием Темный, великий князь московский и всей Руси сын князя Василия I Дмитриевича, великого князя московского и всей Руси, от брака с Софьей Витовтовной (в иночестве Евфросиния), дочерью Витовта Кейстутиевича, великого князя
Из книги Все правители России автора Вострышев Михаил ИвановичВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ МОСКОВСКИЙ ВАСИЛИЙ II ВАСИЛЬЕВИЧ ТЕМНЫЙ (1415–1462) Сын великого князя Василия I Дмитриевича и Софьи Витовтовны. Василий родился в Москве 10 марта 1415 года. По смерти отца 27 февраля 1425 года по его завещанию он в десятилетнем возрасте стал великим князем.Митрополит
автораИван Васильевич Голицын
Из книги История России. Смутное время автора Морозова Людмила Евгеньевна Из книги История России. Смутное время автора Морозова Людмила ЕвгеньевнаВасилий Васильевич Голицын
Из книги Петр Великий. Убийство императора автора Измайлова Ирина АлександровнаКнязь Василий Голицын Говорить о правлении царевны Софьи невозможно, не упомянув ее фаворита, князя Василия Васильевича Голицына.Интересно, что некоторые историки-западники называют его «духовным предшественником Петра». Трудно с этим согласиться, но бесспорно одно:
Из книги История России. Смутное время автора Морозова Людмила ЕвгеньевнаИван Васильевич Голицын И. В. Голицын принадлежал к роду князей Гедиминовичей. Начал службу при Федоре Ивановиче в чине московского дворянина. В 1592 г. ему было присвоено окольничество. Лжедмитрий за известие о переходе под Кромами царской армии на его сторону тут дал
Из книги История России. Смутное время автора Морозова Людмила ЕвгеньевнаАндрей Васильевич Голицын Князь, боярин и талантливый воевода Андрей Васильевич Голицын первый свой воинский подвиг совершил в районе города Кашира. Именно это прославило его и вывело в число ведущих полководцев Смутного времени.A. B. Голицын принадлежал к древнему и
Из книги История России. Смутное время автора Морозова Людмила ЕвгеньевнаВасилий Васильевич Голицын В. В. Голицын принадлежал к роду князей Гедиминовичей. Среди трех братьев был старшим. Службу начал при царе Федоре Ивановиче в должности стольника. Участвовал в походе на Нарву. В 1596 и 1598 гг. был одним из воевод Смоленска. Б. Ф. Годунов, учитывая
О РОДЕ КНЯЗЕЙ ГОЛИЦЫНЫХ
Автор «Записок», которые вы читаете, на первой же странице заметил, что специальная генеалогическая литература избавляет его от необходимости говорить об истории Голицынского рода. Но где эта литература и как может познакомиться с ней читатель, которого заинтересуют предки мемуариста?
Андрей Кириллович Голицын, старший сын автора «Записок», снял с книжной полки несколько толстых томов:
«Материалы к полной родословной росписи князей Голицыных» 1880 года, «Род князей Голицыных» 1892 года, «Петровское» (родовое имение Голицыных) 1912 года, генеалогический сборник русского дворянства, изданный не так давно в Париже, - издания малотиражные и чрезвычайно редкие.
Невозможно, да и не нужно пересказывать содержание этих книг. Они не для чтения. Это росписи многих поколений большого и разветвленного рода, пережившего за века и взлеты, и падения, и даже тотальные преследования, но до сих пор здравствующего. Наиболее полная из существующих росписей князей Голицыных по состоянию 1890 года насчитывает более 1200 человек. За последние сто лет число Голицыных, конечно, выросло, но зато и огромно увеличилось количество «белых пятен» в голицынском родословии. В далекие века люди не терялись. Лишь возле немногих представителей рода значится в росписях знак вопроса или прочерк, означающий, что в безднах времени затерялось имя, год или место рождения человека. Но среди Голицыных XX столетия есть десятки людей и даже целые семьи, о которых сейчас никто ничего не знает. Но об этом мы еще будем говорить, пока же вернемся к истокам.
- 6 -Прямой предок князей Голицыных появился на Руси в 1408 году. За скупыми строками летописей так и видится торжественное прибытие в Москву «заезжего» князя Патрикея из Литвы. Он приехал на службу к Великому Князю Московскому Василию - сыну знаменитого Дмитрия Донского «со всем своим домом»: близкими и дальними родственниками, с двором и дружиной, домочадцами и огнищанами, служителями и челядинцами. Торжественный въезд не обошелся, надо думать, и без княжеских стягов, на которых был изображен скачущий на коне рыцарь в латах и с поднятым мечом. Этот рыцарь - традиционная Литовская «погонь», украшающая, кстати, и родовой герб князей Голицыных, и государственный герб нынешней Литовской республики, - был геральдическим знаком владетельных литовских государей: князь Патрикей был правнуком Гедимина - Великого Князя Литовского, долголетнего владетеля и правителя Литиш.
Московский Государь принял князя Патрикея «с великой честью», и тот сразу же занял одно из первых мест в русской государственной иерархии. Причина тому - не только высокое происхождение «заезжего» князя, не только политический расчет: Москве было выгодно привлекать на свою сторону литовских вельмож. Князь Патрикей был родственником семьи Московских Государей, троюродным браток Софии Витовтовны, супруги Великого Князя Василия. Сразу же добавим, что сын князя Патрикея Юрий женился позднее на дочери Великого Князя Анне и тем самым окончательно закрепил родство выходцев из Литвы с Московским Великокняжеским домом.
Ближайшие потомки князя Патрикея стали родоначальниками многих княжеских родов, хорошо известных в русской истории под собирательным именем «Гедиминовичей» - Хованских, Пинских, Вольских, Чарторыжских, Голицыных, Трубецких, Куракиных...
- 7 -Собственно Голицыны ведут свой род от правнука Юрия Патрикеевича - князя Михаила по прозвищу Голица. Голицами называли тогда железные рукавицы, которые рыцари надевали в бою. По преданию, князь Михаил получил свое прозвище потому, что надевал голицу только на одну руку.
Родоначальник Голицыных был окольничим Великого Князя Василия III и несчастливым воеводой: 8 сентября 1514 года в печально знаменитой битве при Орше литовцы разгромили русское войско, которым командовали князь Михаил Голица и боярин Челяднин. Н. М. Карамзин в своей «Истории государства Российского», рассказывая об этой битве, замечает, что между обоими воеводами не было согласия, что они не желали помогать друг другу и действовали вразнобой. Кроме того, в самом пылу сражения Челяднин, кажется, предал князя Михаила и бежал с поля боя. Это, правда, его не спасло - оба воеводы и еще полторы тысячи дворян попали тогда в литовский плен, а всего Русь лишилась в тот день тридцати тысяч воинов. Князь Михаил Голица провел в плену 38 лет и вернулся на Русь лишь в 1552 году, когда его четвероюродный брат Царь Иван IV Грозный покорил Казанское ханство.
О ком из Голицыных, вписавших свое имя в историю России, упомянуть в этом коротком очерке? Историк писал, что «голицынский род самый многочисленный из русских аристократических родов» (второй по числу представителей - род князей Долгоруковых). Кроме того, Голицыны всегда были «на виду», всегда занимали значительные государственные должности, были возле Царского, а позже Императорского трона. Даже сухие цифры свидетельствуют о значении рода и его роли в истории нашего Отечества. В голицынском роду было 22 боярина: ни один другой род не - Руси стольких бояр - ближайших советников Московских Государей. Среди Голицыных было два фельдмаршала, 50 генералов и адмиралов, 22 Георгиевских кавале-
- 8 -pa - орден Св. Георгия давался только за ратные заслуги. Многие Голицыны участвовали в Отечественной войне 1812 года, четверо пали в ее сражениях, двое из них - на Бородинском поле. Князь Александр Борисович Голицын всю кампанию был бессменным адъютантом главнокомандующего фельдмаршала Кутузова и оставил интересные «Записки об Отечественной войне».
Голицыны всегда блюли честь рода так, как это понималось в ту или иную историческую эпоху. Во времена местничества один из-за этого даже пострадал, но не уронил достоинство фамилии: думный боярин Иван Васильевич Голицын, категорически отказался сесть за Царским свадебным столом «ниже» князей Шуйских. Он предпочел вообще не явиться из-за этого на свадьбу Царя Михаила Федоровича в 1624 году, за что был сослан с семьей в Пермь, где вскоре и скончался.
Таких случаев, однако, было немного. Чаще Московские Государи жаловали Голицыных и даже выдавали за них своих родственниц. Уже упоминалось о родстве князя Патрикея и Патрикеевичей с Домом Московских Рюриковичей. Продолжив эту тему, можно указать и на родство Голицыных по женской линии с династией Романовых. Князь Иван Андреевич Голицын, например, был женат на ближайшей родственнице супруги Царя Алексея Михайловича - Марии Ильиничне Милославской, княжна Прасковья Дмитриевна Голицына была замужем за Федором Нарышкиным и приходилась теткой Петру Великому, а княгиня Наталья Голицына была ему двоюродной сестрой.
Одного из Голицыных - князя Василия Васильевича иностранцы называли «Великим». В России, правда, это прозвище за ним не закрепилось по понятным причинам. Однако, заслуги его в управлении государством были действительно велики, а роль конечно же не сводилась лишь к близости к Царевне Софье Алексеевне, как примитивно пытаются представить иные исторические романисты. Князь
- 9 -Василий Васильевич служил Отечеству и Престолу более 30 лет. Вот лишь перечень его должностей и званий: Государев стольник и чашник, Государев возница, главный стольник, боярин царя Федора Алексеевича, начальник Посольского приказа, дворовый воевода и, наконец, «царственныя государственныя Большия печати сберегатель, наместник Новгородский и ближний боярин». После того, как Петр Первый заточил Царевну Софью в монастырь, ее «правая рука» князь Василий Васильевич был лишен чинов, званий и имущества (но не княжеского достоинства) и сослан в дальние северные города.
Но в то же самое время возвысился двоюродный брат опального - князь Борис Алексеевич Голицын. Он был воспитателем Петра Великого, его ближайшим советником, и стал последним в роде, кому было пожаловано боярство - вскоре после этого Государева Боярская Дума отошла в историю, и ее заменил петровский Правительствующий Сенат.
Видную роль в России начала XVIII века играли и трое братьев «Михайловичей». Старший, князь Дмитрий Михайлович Голицын был сначала комнатным стольником Петра Великого, потом стал капитаном Преображенского полка, позже - сенатором, действительным тайным советником, президентом Коммерц-коллегии и членом Верховного тайного Совета. В этом качестве он стал инициатором первой в истории попытки ограничить самодержавие Российских Государей. Вместе с другими членами Верховного тайного Совета он заставил Императрицу Анну Иоанновну перед вступлением на престол подписать так называемые «кондиции», которые обязывали ее, управляя страной, считаться с мнением высшего дворянства. Как известно, эта попытка не удалась, Императрица отказалась выполнять «кондиции», но не забыла их авторов. Князь Дмитрий Михайлович через несколько лет был обвинен в измене и заточен в Шлиссельбургскую крепость, где и скончался в 1737 году.
- 10 -Второй из братьев князь Михаил Михайлович - старший также был стольником и «царевым барабанщиком» у Петра Великого, позже оказался среди героев Полтавской битвы и был отмечен Царем, участвовал во многих других сражениях петровского и послепетровского времени, дослужился до чина фельдмаршала (1 класс по Табели о рангах) и был президентом Военной Коллегии, то есть военным министром России. И, наконец, третий - князь Михаил Михайлович-младший повторил карьеру старшего брата, но не в сухопутных войсках, а на Российском флоте. Он был моряком и флотоводцем, носил высший чин генерал-адмирала русского флота (также 1 класс) и был президентом Адмиралтейств-коллегий, или морским министром.
При Императрице Екатерине II прославился как крупный полководец князь Александр Михайлович, который был кавалером всех без исключения Российских орденов. Его брат князь Дмитрий Михайлович в течение тридцати лет был послом России при Австрийском Дворе в Вене, по его завещанию и на его средства в Москве была основана известная всем Голицынская больница, которая до 1917 года содержалась на средства князей Голицыных и до сих пор служит своему назначению. А их двоюродный брат тоже Александр Михайлович более 15 лет представлял Россию в Париже и Лондоне.
При Императорах Александре и Николае Павловичах почти четверть века Московским генерал-губернатором был князь Дмитрий Владимирович Голицын - строитель первопрестольной, покровитель наук и искусств. Как свидетельствуют почти все мемуаристы первой половины XIX столетия, он много сделал для Москвы - строил ее, благоустраивал, заботился о Московском университете, помогал московским театрам, основал в городе итальянскую оперу... За заслуги в развитии Москвы Государь Николая I пожаловал его титулом светлейшего князя с правом передавать его потомкам.
- 11 -Не буду продолжать перечисление, тем более что о следующих поколениях Голицыных - главным образом, о поколении своих дедов - коротко рассказывает в главе «Семья» и сам автор «Записок». Да и вообще, перечисление мало что добавит к общей характеристике этого рода, принадлежащего к древнейшему русскому дворянству - сословию, которое столетиями формировало ход исторического развития России. Под таким углом зрения, думается, и должно смотреть сегодня на голицынский род. «Из песни слова не выкинешь», - говорит пословица. Точно так же не вычеркнуть из российской истории и Голицыных. К ним, как и к другим древним родам, следует относиться сегодня, как к неотъемлемой части истории родины.
Уже были - и не так уж давно! - попытки «сбросить с корабля современности» дворянина Пушкина, объявить «барской», а следовательно антинародной едва ли не всю русскую культуру прошлого века, «не замечать» тех или иных исторических деятелей из-за их принадлежности к «эксплуататорскому классу». Наши сегодняшние бескультурье и дикость во многом следствие именно такого подхода, который еще недавно считался «единственно верным».
Разрушая храмы, уничтожая материальные памятники прошлого, стирая самую память о былом, советская власть десятилетиями искореняла и «живые памятники» отечественной истории - потомство русских исторических родов. Да простят мне ныне здравствующие Голицыны и Барятинские, Трубецкие и Волконские, Шереметевы и Мещерские такое сравнение, но все-таки нечто общее между каменным свидетелем прошлого и живым наследником древней фамилии есть, и это общее - принадлежность к истории.
Каким еще недавно было у нас отношение к представителям русских родов ни для кого не секрет. Они в лучшем случае были изгоями и подозрительными «бывшими». Уже упоминалось об изданной недавно в Париже родословной росписи некоторых русских дворянских родов. Значительная
- 12 -часть этого тома посвящена Голицыным. И против многих, очень многих имен - прочерки. Не только в Париже нет сведений о судьбе десятков и десятков представителей голицынского рода, затянутых в омут революции, нет их и в Москве. Где они? Что стало с теми, кто в 1917-20 годах не пожелал покинуть родную землю?
До некоторой степени ответ на эти вопросы дают «Записки». Но их автору все-таки повезло: он остался в живых. Не все вытянули столь «счастливый» билет. Представителей исторических родов еще недавно преследовали просто «за фамилию», преследовали всей мощью государственной карательной машины. Достаточно было называться Голицыным или Шереметевым, чтобы быть врагом, подлежащим уничтожению.
Князь Андрей Кириллович Голицын уже несколько лет пытается узнать что-либо о судьбе своих исчезнувших родственников и сородичей. Копии его запросов в самые разные учреждения занимают целые папки. Десятки, может быть, сотни запросов... И ответы. Завеса тайны начинает приподниматься.
Вот, например, ответ на запрос о судьбе Дмитрия Александровича Голицына. Сообщает Прокуратура Джезказганской области Казахстана: «Постановлением Тройки УНКВД по Карагандинской области осужден к высшей мере наказания - расстрелу. Приговор приведен в исполнение 7 января 1938 года. 21 апреля 1989 года реабилитирован». К ответу приложено официальное «Свидетельство о смерти», в графе «причина смерти» значится - «расстрел».
Ответ из Карагандинской области Казахстана на запрос о судьбе Владимира Львовича Голицына: «4 марта 1935 года осужден особым совещанием при НКВД СССР на 5 лет, направлен в Карлаг НКВД, 22 мая 1937 года приговорен Особой Тройкой НКВД к расстрелу за контрреволюционную агитацию среди заключенных, за распространение слухов о жестокостях в лагере, о плохом питании и прину
- 13 -дительном труде, что нарушало нормальный ход работы на опытно-поливном поле Карлага». 13 августа 1937 года расстрелян. В 1959 году приговор Особой Тройки отменен, как необоснованный.
Ответ Военного прокурора Одесского военного округа на запрос о Сергее Павловиче Голицыне: «Работал актером в театре города Николаева, по решению НКВД СССР и Прокурора СССР 4 января 1938 года репрессирован. 16 января 1989 года реабилитирован».
Ответ с Украины на запрос о судьбе Константина Александровича Голицына: «Арестован 15 декабря 1930 года по необоснованному обвинению, как участник контрреволюционной монархической организации. Тройкой при Коллегии ГПУ приговорен к расстрелу. Приговор приведен в исполнение 9 мая 1931 года».
Ответ Московского отделения ФСБ на запрос об Анатолии Григорьевиче Голицыне: «Бухгалтер Московского футлярного объединения А. Г. Голицын был арестован 26 августа 1937 года, необоснованно обвинен Тройкой при УНКВД СССР в контрреволюционной деятельности, приговорен к ВМН. Приговор приведен в исполнение 21 октября 1937 года в г. Москве. В 1960 году реабилитирован».
Ответ на запрос об Александре Александровиче Голицыне: «Техник-строитель отделения Заготзерно в г. Липецке А. А. Голицын арестован 7 августа 1937 года за ведение антисоветской агитации. Приговорен к высшей мере наказания. Приговор приведен в исполнение 10 октября 1937 года. В 1956 году реабилитирован».
На многие запросы, как надеется князь Андрей Кириллович, ответы еще придут. А речь в них идет часто даже не об отдельных людях, а о целых семьях. Полностью, например, пропала без вести семья Григория Васильевича Голицына. Ничего не известно о семье Сергея Сергеевича Голицына, о семьях Александра Петровича, Льва Львовича и многих других.
- 14 -Не нужно думать, что репрессии обрушивались только на мужчин. Одна из женщин голицынского рода Ирина Александровна Ветчинина, работавшая зоотехником в одном из колхозов Кировоградской области, была арестована и приговорена к расстрелу за «антисоветскую пропаганду». Пропаганда выразилась в том, что в письме к матери, которая жила в Праге, она рассказала о своем бедственном положении. Эта открытка сохранилась в деле, и мы можем процитировать ее сегодня: «Милая дорогая моя мамочка, долго не писала тебе, потому что не хотелось писать, что мне плохо. Все ждала, что улучшится мое положение, а оно все ухудшается... У нас, мамочка, сейчас так плохо, как никогда не было: большие морозы, а я хожу в парусиновом плаще и чуть ли не босиком. Мамочка милая, может быть, у тебя найдется что-нибудь теплое старое, чтобы я перезимовала эту зиму...»
Эти строки в открытке, подчеркнутые следовательским карандашом, и стали основанием смертного приговора.
Так постепенно, шаг за шагом заполняются те "белые пятна" в голицынской родословной о которых мы говорили на первых страницах этих заметок. И пусть не радует такая правда, пусть однообразно горьки ответы: расстрелян - реабилитирован, расстрелян - реабилитирован, они все же лучше неизвестности. По крайней мере, они позволяют без прикрас, во всей неприглядности и жестокости представить себе отношение большевистских властей к людям, само имя которых принадлежит истории России.
Голицыны – один из самых знатных и старинных княжеских родов России, ведущий свою родословную от сына великого князя Литовского Гедимина, Наримунда, который княжил в Новгороде XV века и при крещении получил имя Глеб. Из рода происходили 2 фельдмаршала, 22 боярина, 16 воевод, 37 высших сановников, 14 Голицыных пали на поле брани, Василий Васильевич (ум. в 1619 г.) даже был одним из претендентов на российский трон. Князья, сенаторы, ученые, военные, многочисленные представители Голицыных верой и правдой служили России в течение шести веков, заняв видное место в истории своего Отечества.
Из серии: Династии
* * *
Приведённый ознакомительный фрагмент книги Голицыны. Главные помещики (А. В. Демидова, 2014) предоставлен нашим книжным партнёром - компанией ЛитРес .
В 1713 году архимандрит Киево-Печерской лавры Афанасий Миславский (1731–1796) издал «Алфавит духовный», посвятив труд свой, предназначенный «на пользу инокам и мирским», князю Д. М. Голицыну. На обложке красовалась резанная по дереву «погоня», герб рода Голицыных, и были помещены стихи «На старожитный клейнот сиятельных князей Голицыных»:
В делах государских есть явная князей справа
Голицынов, и в верных нуждах всяких слава,
В управе же Царевой, и в трудах воинских,
Имеют ревность, пилность панств всеяроссийских,
Меч, конь, рыцарь в погоне отвагу звествуют,
Пред Государем, людми, службу повествуют.
Лучшего эпиграфа не найти и для настоящего издания о династии Голицыных.
Княжеский род
Голицыны – княжеский род, происходящий от великого князя Литовского Гедимина, долголетнего владетеля и правителя Литиш, сын которого Наримунд, получивший при крещении имя Глеб (умер в 1348 г.), был князем новгородским, ладожским, ореховецким и пр. Его внук Патрикей Александрович, князь звенигородский (на Волыни), появился на Руси в 1408 году: он приехал на службу к великому князю московскому Василию, сыну знаменитого Дмитрия Донского, «со всем своим домом» – близкими и дальними родственниками, с двором и дружиной, домочадцами и огнищанами, служителями и челядинцами. Торжественный въезд не обошелся, надо думать, и без княжеских стягов, на которых был изображен скачущий на коне рыцарь в латах и с поднятым мечом. Этот рыцарь – традиционная Литовская «погонь», украшающая, кстати, и родовой герб князей Голицыных, и государственный герб нынешней Литовской республики, – был геральдическим знаком владетельных литовских государей. Московский государь принял князя Патрикея «с великой честью», и тот сразу же занял одно из первых мест в русской государственной иерархии. Причина тому – не только высокое происхождение «заезжего» князя, не только политический расчет: Москве было выгодно привлекать на свою сторону литовских вельмож. Князь Патрикей был родственником семьи московских государей, троюродным братом Софии Витовтовны, супруги великого князя Василия. Сын князя Патрикея Юрий женился позднее на дочери великого князя Анне и тем самым окончательно закрепил родство выходцев из Литвы с московским великокняжеским домом.
Внуки последнего носили фамилию князей Патрикеевых, а один из правнуков, боярин-князь Иван Васильевич Булгак, имел сына Михаила Ивановича, прозванного Голица, который и стал родоначальником самой многочисленной княжеской фамилии России.
Единственный сын Михаила Ивановича, боярин Юрий Михайлович Голицын (умер в 1557 г.) в 1530-х годах поддерживал Глинских, позднее стал одним из главных воевод при взятии Казани (1552). Его старший сын, князь Иван Юрьевич Голицын (умер в 1583 г.), получил чин боярина в 1574 году. Его дочь, Евдокия Ивановна, была замужем за А. Н. Романовым-Юрьевым, дядей царя Михаила Федоровича, а сыновья, Иван и Андрей, стали боярами в 1592 году, были воеводами разных полков. Дочь Андрея Ивановича, Федора, была женой князя Дмитрия Михайловича Пожарского. Однако линия потомков Ивана Юрьевича Голицына позднее угасла, и родоначальником позднейших Голицыных стал второй сын Юрия Михайловича, Василий Юрьевич Голицын (умер в 1584 г.), воевода пронский (1562), одоевский (1565), брянский (1570).
Предок всех существующих князей Голицыных, внук Василия Юрьевича, князь Андрей Андреевич (представитель пятого поколения от родоначальника, умер 22 сентября 1638 г.), крупный землевладелец, с 1638 года – боярин; он входил в ближний круг царя Михаила Федоровича и во время его летнего похода даже был «оставлен ведать Москву». В заключенном в 1628 году браке с Евфимией Юрьевной Пильемовой-Сабуровой у него родились четверо сыновей, Василий (умер в 1652 г.), Иван (умер в 1690 г.), Алексей (1632–1694), Михаил (1639–1687), от которых пошли четы ре ветви рода Голицыных: Васильевичи, Ивановичи (ветвь пресеклась в 1751 г.), Алексеевичи (наиболее обширная и состоятельная ветвь), Михайловичи (особенно заметная в XVIII веке ветвь).
Историк писал, что «голицынский род самый многочисленный из русских аристократических родов» (второй по числу представителей – род князей Долгоруковых). Кроме того, Голицыны всегда были «на виду», всегда занимали значительные государственные должности, были возле царского, а позже императорского трона. Даже сухие цифры свидетельствуют о значении рода и его роли в истории нашего Отечества. В голицынском роду было 22 боярина (ни один другой род на Руси не дал стольких бояр – ближайших советников московских государей), 16 воевод, 2 фельдмаршала, 50 генералов и адмиралов, 37 высших сановников, 22 георгиевских кавалера (орден Святого Георгия давался только за ратные заслуги), 14 представителей этой славной фамилии пали на поле брани. (Многие Голицыны участвовали в Отечественной войне 1812 года, четверо пали в ее сражениях, двое из них – на Бородинском поле. Князь Александр Борисович Голицын всю кампанию был бессменным адъютантом главнокомандующего фельдмаршала Кутузова и оставил интересные «Записки об Отечественной войне».)
В книге князя Н. Н. Голицына «Род князей Голицыных» (Санкт-Петербург, 1892) сообщается, что в 1891 году было в живых 90 представителей фамилии мужского пола, 49 княгинь и 87 княжон Голицыных. Одну ветвь Голицыных в лице московского генерал-губернатора князя Дмитрия Владимировича (он много сделал для Москвы – строил ее, благоустраивал, заботился о Московском университете, помогал московским театрам, основал в городе итальянскую оперу) в 1841 году император Николай I пожаловал потомственным титулом светлости. Князь Григорий Сергеевич (родился в 1838 г.), генерал-лейтенант, сенатор, во время неурожая 1891 года был послан с особыми полномочиями в Сибирь, а позднее вошел в состав Государственного совета. В 1863 году князь Мстислав Валерианович Голицын получил титул графа Остермана, став родоначальником рода князей Голицыных-Остерманов. В 1854 году князю Александру Федоровичу Голицыну и его потомству был передан титул князя Прозоровского с правом писаться князем Голицыным-Прозоровским.
Род князей Голицыных внесен в V часть родословной книги Санкт-Петербургской, Московской, Тверской, Курской, Владимирской, Нижегородской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской и Черниговской губерний Российской империи.
В годы революционного лихолетья и Гражданской войны Голицыны разделили участь большинства населения императорской России. Один из представителей сломанного поколения русской аристократии, Сергей Михайлович Голицын напишет: «Сколько-то погибло в тюрьмах, сколько-то было расстреляно, но многие народились, большое число разъехалось по всему свету…»
О РОДЕ КНЯЗЕЙ ГОЛИЦЫНЫХ
Прямой предок князей Голицыных появился на Руси в 1408 году. За скупыми строками летописей так и видится торжественное прибытие в Москву «заезжего» князя Патрикея из Литвы. Он приехал на службу к Великому Князю Московскому Василию - сыну знаменитого Дмитрия Донского «со всем своим домом»: близкими и дальними родственниками, с двором и дружиной, домочадцами и огнищанами, служителями и челядинцами. Торжественный въезд не обошелся, надо думать, и без княжеских стягов, на которых был изображен скачущий на коне рыцарь в латах и с поднятым мечом. Этот рыцарь - традиционная Литовская «погонь», украшающая, кстати, и родовой герб князей Голицыных, и государственный герб нынешней Литовской республики, - был геральдическим знаком владетельных литовских государей: князь Патрикей был правнуком Гедимина - Великого Князя Литовского, долголетнего владетеля и правителя Литиш.
Московский Государь принял князя Патрикея «с великой честью», и тот сразу же занял одно из первых мест в русской государственной иерархии. Причина тому - не только высокое происхождение «заезжего» князя, не только политический расчет: Москве было выгодно привлекать на свою сторону литовских вельмож. Князь Патрикей был родственником семьи Московских Государей, троюродным браток Софии Витовтовны, супруги Великого Князя Василия. Сразу же добавим, что сын князя Патрикея Юрий женился позднее на дочери Великого Князя Анне и тем самым окончательно закрепил родство выходцев из Литвы с Московским Великокняжеским домом.
Ближайшие потомки князя Патрикея стали родоначальниками многих княжеских родов, хорошо известных в русской истории под собирательным именем «Гедиминовичей» - Хованских, Пинских, Вольских, Чарторыжских, Голицыных, Трубецких, Куракиных...
Собственно Голицыны ведут свой род от правнука Юрия Патрикеевича - князя Михаила по прозвищу Голица. Голицами называли тогда железные рукавицы, которые рыцари надевали в бою. По преданию, князь Михаил получил свое прозвище потому, что надевал голицу только на одну руку.
Родоначальник Голицыных был окольничим Великого Князя Василия III и несчастливым воеводой: 8 сентября 1514 года в печально знаменитой битве при Орше литовцы разгромили русское войско, которым командовали князь Михаил Голица и боярин Челяднин. Н. М. Карамзин в своей «Истории государства Российского», рассказывая об этой битве, замечает, что между обоими воеводами не было согласия, что они не желали помогать друг другу и действовали вразнобой. Кроме того, в самом пылу сражения Челяднин, кажется, предал князя Михаила и бежал с поля боя. Это, правда, его не спасло - оба воеводы и еще полторы тысячи дворян попали тогда в литовский плен, а всего Русь лишилась в тот день тридцати тысяч воинов. Князь Михаил Голица провел в плену 38 лет и вернулся на Русь лишь в 1552 году, когда его четвероюродный брат Царь Иван IV Грозный покорил Казанское ханство.
О ком из Голицыных, вписавших свое имя в историю России, упомянуть в этом коротком очерке? Историк писал, что «голицынский род самый многочисленный из русских аристократических родов» (второй по числу представителей - род князей Долгоруковых). Кроме того, Голицыны всегда были «на виду», всегда занимали значительные государственные должности, были возле Царского, а позже Императорского трона. Даже сухие цифры свидетельствуют о значении рода и его роли в истории нашего Отечества. В голицынском роду было 22 боярина: ни один другой род не - Руси стольких бояр - ближайших советников Московских Государей. Среди Голицыных было два фельдмаршала, 50 генералов и адмиралов, 22 Георгиевских кавалера орден Св. Георгия давался только за ратные заслуги. Многие Голицыны участвовали в Отечественной войне 1812 года, четверо пали в ее сражениях, двое из них - на Бородинском поле. Князь Александр Борисович Голицын всю кампанию был бессменным адъютантом главнокомандующего фельдмаршала Кутузова и оставил интересные «Записки об Отечественной войне».
Голицыны всегда блюли честь рода так, как это понималось в ту или иную историческую эпоху. Во времена местничества один из-за этого даже пострадал, но не уронил достоинство фамилии: думный боярин Иван Васильевич Голицын, категорически отказался сесть за Царским свадебным столом «ниже» князей Шуйских. Он предпочел вообще не явиться из-за этого на свадьбу Царя Михаила Федоровича в 1624 году, за что был сослан с семьей в Пермь, где вскоре и скончался.
Таких случаев, однако, было немного. Чаще Московские Государи жаловали Голицыных и даже выдавали за них своих родственниц. Уже упоминалось о родстве князя Патрикея и Патрикеевичей с Домом Московских Рюриковичей. Продолжив эту тему, можно указать и на родство Голицыных по женской линии с династией Романовых. Князь Иван Андреевич Голицын, например, был женат на ближайшей родственнице супруги Царя Алексея Михайловича - Марии Ильиничне Милославской, княжна Прасковья Дмитриевна Голицына была замужем за Федором Нарышкиным и приходилась теткой Петру Великому, а княгиня Наталья Голицына была ему двоюродной сестрой.
Одного из Голицыных - князя Василия Васильевича иностранцы называли «Великим». В России, правда, это прозвище за ним не закрепилось по понятным причинам. Однако, заслуги его в управлении государством были действительно велики, а роль конечно же не сводилась лишь к близости к Царевне Софье Алексеевне, как примитивно пытаются представить иные исторические романисты. Князь Василий Васильевич служил Отечеству и Престолу более 30 лет. Вот лишь перечень его должностей и званий: Государев стольник и чашник, Государев возница, главный стольник, боярин царя Федора Алексеевича, начальник Посольского приказа, дворовый воевода и, наконец, «царственныя государственныя Большия печати сберегатель, наместник Новгородский и ближний боярин». После того, как Петр Первый заточил Царевну Софью в монастырь, ее «правая рука» князь Василий Васильевич был лишен чинов, званий и имущества (но не княжеского достоинства) и сослан в дальние северные города.
Но в то же самое время возвысился двоюродный брат опального - князь Борис Алексеевич Голицын. Он был воспитателем Петра Великого, его ближайшим советником, и стал последним в роде, кому было пожаловано боярство - вскоре после этого Государева Боярская Дума отошла в историю, и ее заменил петровский Правительствующий Сенат.
Видную роль в России начала XVIII века играли и трое братьев «Михайловичей». Старший, князь Дмитрий Михайлович Голицын был сначала комнатным стольником Петра Великого, потом стал капитаном Преображенского полка, позже - сенатором, действительным тайным советником, президентом Коммерц-коллегии и членом Верховного тайного Совета. В этом качестве он стал инициатором первой в истории попытки ограничить самодержавие Российских Государей. Вместе с другими членами Верховного тайного Совета он заставил Императрицу Анну Иоанновну перед вступлением на престол подписать так называемые «кондиции», которые обязывали ее, управляя страной, считаться с мнением высшего дворянства. Как известно, эта попытка не удалась, Императрица отказалась выполнять «кондиции», но не забыла их авторов. Князь Дмитрий Михайлович через несколько лет был обвинен в измене и заточен в Шлиссельбургскую крепость, где и скончался в 1737 году.
Второй из братьев князь Михаил Михайлович - старший также был стольником и «царевым барабанщиком» у Петра Великого, позже оказался среди героев Полтавской битвы и был отмечен Царем, участвовал во многих других сражениях петровского и послепетровского времени, дослужился до чина фельдмаршала (1 класс по Табели о рангах) и был президентом Военной Коллегии, то есть военным министром России. И, наконец, третий - князь Михаил Михайлович-младший повторил карьеру старшего брата, но не в сухопутных войсках, а на Российском флоте. Он был моряком и флотоводцем, носил высший чин генерал-адмирала русского флота (также 1 класс) и был президентом Адмиралтейств-коллегий, или морским министром.
При Императрице Екатерине II прославился как крупный полководец князь Александр Михайлович, который был кавалером всех без исключения Российских орденов. Его брат князь Дмитрий Михайлович в течение тридцати лет был послом России при Австрийском Дворе в Вене, по его завещанию и на его средства в Москве была основана известная всем Голицынская больница, которая до 1917 года содержалась на средства князей Голицыных и до сих пор служит своему назначению. А их двоюродный брат тоже Александр Михайлович более 15 лет представлял Россию в Париже и Лондоне.
При Императорах Александре и Николае Павловичах почти четверть века Московским генерал-губернатором был князь Дмитрий Владимирович Голицын - строитель первопрестольной, покровитель наук и искусств. Как свидетельствуют почти все мемуаристы первой половины XIX столетия, он много сделал для Москвы - строил ее, благоустраивал, заботился о Московском университете, помогал московским театрам, основал в городе итальянскую оперу... За заслуги в развитии Москвы Государь Николая I пожаловал его титулом светлейшего князя с правом передавать его потомкам.
Голицын, Николай Михайлович
Материал из Википедии - свободной энциклопедии
В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Голицын.
Николай Михайлович Голицын
Обергофмаршал
1768 - 1775
Награды:
Князь Николай Михайлович Голицын (8 января 1727 - 2 января 1787) - русский придворный из рода Голицыных, обер-гофмаршал и тайный советник.
Семнадцатый ребёнок генерал-фельдмаршала Михаила Михайловича Голицына Старшего, по матери - внук князя Бориса Ивановича Куракина, одного из руководителей внешней политики петровского царствования. Среди старших братьев - фельдмаршал А. М. Голицын и крупный дипломат Д. М. Голицын.
Камер-юнкер с 22 декабря 1761 года, капитан Измайловского полка, с 1763 камергер и гофмаршал. На коронации Екатерины II расставлял кушания. В дневнике Порошина упоминается как частый гость покоев наследника, с которым вёл разговоры о тригонометрии, венгерских винах и других предметах.
В 1768 императрица пожаловала Голицына в обер-гофмаршалы, т.е. сделала главным распорядителем придворной жизни. При дворе он был известен под прозвищем «толстяк» (Mr le Gros). Кавалер ордена Св. Анны, в 1773 году был награждён орденом Александра Невского.Николай Михайлович Голицын
Обергофмаршал
1768 - 1775
Предшественник: Карл Ефимович Сиверс
Преемник: Григорий Никитич Орлов
Награды:
Band to Order St Alexander Nevsky.png Order of Saint Anne Ribbon.PNG
Уволен по прошению от всех должностей 12 августа 1775 года. В своём памфлете князь Щербатов утверждает, что Голицын потерял позиции при дворе из-за конфликта с Потёмкиным: «Неосторожность приготовить ему какого-то любимого блюда подвергла его подлому ругательству от Потёмкина и принудила идти в отставку».
Варвара Николаевна, дочь
Екатерина Николаевна, дочь
Князь Голицын был крупным землевладельцем, имел поместья в Подмосковье, в Мещовском и Козельском уездах (20 тысяч крепостных крестьян). Скончался в январе 1787 года в Петербурге и был похоронен рядом с женой на Лазаревском кладбище.
Семья и дети
С 1753 года был женат на Екатерине Александровне Головиной (1728-9.09.1769), дочери и наследнице адмирала А. И. Головина. Дети:
Варвара Николаевна (25.07.1762-4.01.1802), замечательная красавица, замужем за гофмейстером князем Сергеем Сергеевичем Гагариным (1745-1798), их сыновья Николай и Сергей.
Екатерина Николаевна (14.11.1764-7.11.1832), замужем за светлейшим князем С. А. Меншиковым (1746-1815). По свидетельству современников, была одной из самых красивых женщин своего времени и отличалась свободным образом жизни.
Анна Николаевна (15.11.1767-18?), была замужем за графом А. А. Мусиным-Пушкиным (1760-1806), но потомства не оставила. Будучи разорена управляющими, скончалась в бедности.
Александр Николаевич (6.09.1769-12.04.1817), камергер и богач, известный своей безумной расточительностью, за что был прозван в Москве именем оперы, бывшей в большой моде, «Cosa-rara». Был женат на княжне Марии Григорьевне Вяземской (1772-1865), после развода с ним, в 1802 году она вышла замуж за графа Л. К. Разумовского. В 1800-е года разорился и под конец жизни получал пенсию от своего троюродного брата князя С. М. Голицына.
Не буду продолжать перечисление, тем более что о следующих поколениях Голицыных - главным образом, о поколении своих дедов - коротко рассказывает в главе «Семья» и сам автор «Записок». Да и вообще, перечисление мало что добавит к общей характеристике этого рода, принадлежащего к древнейшему русскому дворянству - сословию, которое столетиями формировало ход исторического развития России. Под таким углом зрения, думается, и должно смотреть сегодня на голицынский род. «Из песни слова не выкинешь», - говорит пословица. Точно так же не вычеркнуть из российской истории и Голицыных. К ним, как и к другим древним родам, следует относиться сегодня, как к неотъемлемой части истории родины.
Уже были - и не так уж давно! - попытки «сбросить с корабля современности» дворянина Пушкина, объявить «барской», а следовательно антинародной едва ли не всю русскую культуру прошлого века, «не замечать» тех или иных исторических деятелей из-за их принадлежности к «эксплуататорскому классу». Наши сегодняшние бескультурье и дикость во многом следствие именно такого подхода, который еще недавно считался «единственно верным».
Разрушая храмы, уничтожая материальные памятники прошлого, стирая самую память о былом, советская власть десятилетиями искореняла и «живые памятники» отечественной истории - потомство русских исторических родов. Да простят мне ныне здравствующие Голицыны и Барятинские, Трубецкие и Волконские, Шереметевы и Мещерские такое сравнение, но все-таки нечто общее между каменным свидетелем прошлого и живым наследником древней фамилии есть, и это общее - принадлежность к истории.
Каким еще недавно было у нас отношение к представителям русских родов ни для кого не секрет. Они в лучшем случае были изгоями и подозрительными «бывшими». Уже упоминалось об изданной недавно в Париже родословной росписи некоторых русских дворянских родов. Значительная
Часть этого тома посвящена Голицыным. И против многих, очень многих имен - прочерки. Не только в Париже нет сведений о судьбе десятков и десятков представителей голицынского рода, затянутых в омут революции, нет их и в Москве. Где они? Что стало с теми, кто в 1917-20 годах не пожелал покинуть родную землю?
До некоторой степени ответ на эти вопросы дают «Записки». Но их автору все-таки повезло: он остался в живых. Не все вытянули столь «счастливый» билет. Представителей исторических родов еще недавно преследовали просто «за фамилию», преследовали всей мощью государственной карательной машины. Достаточно было называться Голицыным или Шереметевым, чтобы быть врагом, подлежащим уничтожению.
Князь Андрей Кириллович Голицын уже несколько лет пытается узнать что-либо о судьбе своих исчезнувших родственников и сородичей. Копии его запросов в самые разные учреждения занимают целые папки. Десятки, может быть, сотни запросов... И ответы. Завеса тайны начинает приподниматься.
Вот, например, ответ на запрос о судьбе Дмитрия Александровича Голицына. Сообщает Прокуратура Джезказганской области Казахстана: «Постановлением Тройки УНКВД по Карагандинской области осужден к высшей мере наказания - расстрелу. Приговор приведен в исполнение 7 января 1938 года. 21 апреля 1989 года реабилитирован». К ответу приложено официальное «Свидетельство о смерти», в графе «причина смерти» значится - «расстрел».
Ответ из Карагандинской области Казахстана на запрос о судьбе Владимира Львовича Голицына: «4 марта 1935 года осужден особым совещанием при НКВД СССР на 5 лет, направлен в Карлаг НКВД, 22 мая 1937 года приговорен Особой Тройкой НКВД к расстрелу за контрреволюционную агитацию среди заключенных, за распространение слухов о жестокостях в лагере, о плохом питании и прину
дительном труде, что нарушало нормальный ход работы на опытно-поливном поле Карлага». 13 августа 1937 года расстрелян. В 1959 году приговор Особой Тройки отменен, как необоснованный.
Ответ Военного прокурора Одесского военного округа на запрос о Сергее Павловиче Голицыне: «Работал актером в театре города Николаева, по решению НКВД СССР и Прокурора СССР 4 января 1938 года репрессирован. 16 января 1989 года реабилитирован».
Ответ с Украины на запрос о судьбе Константина Александровича Голицына: «Арестован 15 декабря 1930 года по необоснованному обвинению, как участник контрреволюционной монархической организации. Тройкой при Коллегии ГПУ приговорен к расстрелу. Приговор приведен в исполнение 9 мая 1931 года».
Ответ Московского отделения ФСБ на запрос об Анатолии Григорьевиче Голицыне: «Бухгалтер Московского футлярного объединения А. Г. Голицын был арестован 26 августа 1937 года, необоснованно обвинен Тройкой при УНКВД СССР в контрреволюционной деятельности, приговорен к ВМН. Приговор приведен в исполнение 21 октября 1937 года в г. Москве. В 1960 году реабилитирован».
Ответ на запрос об Александре Александровиче Голицыне: «Техник-строитель отделения Заготзерно в г. Липецке А. А. Голицын арестован 7 августа 1937 года за ведение антисоветской агитации. Приговорен к высшей мере наказания. Приговор приведен в исполнение 10 октября 1937 года. В 1956 году реабилитирован».
На многие запросы, как надеется князь Андрей Кириллович, ответы еще придут. А речь в них идет часто даже не об отдельных людях, а о целых семьях. Полностью, например, пропала без вести семья Григория Васильевича Голицына. Ничего не известно о семье Сергея Сергеевича Голицына, о семьях Александра Петровича, Льва Львовича и многих других.
Не нужно думать, что репрессии обрушивались только на мужчин. Одна из женщин голицынского рода Ирина Александровна Ветчинина, работавшая зоотехником в одном из колхозов Кировоградской области, была арестована и приговорена к расстрелу за «антисоветскую пропаганду». Пропаганда выразилась в том, что в письме к матери, которая жила в Праге, она рассказала о своем бедственном положении. Эта открытка сохранилась в деле, и мы можем процитировать ее сегодня: «Милая дорогая моя мамочка, долго не писала тебе, потому что не хотелось писать, что мне плохо. Все ждала, что улучшится мое положение, а оно все ухудшается... У нас, мамочка, сейчас так плохо, как никогда не было: большие морозы, а я хожу в парусиновом плаще и чуть ли не босиком. Мамочка милая, может быть, у тебя найдется что-нибудь теплое старое, чтобы я перезимовала эту зиму...»
Эти строки в открытке, подчеркнутые следовательским карандашом, и стали основанием смертного приговора.
Так постепенно, шаг за шагом заполняются те "белые пятна" в голицынской родословной о которых мы говорили на первых страницах этих заметок. И пусть не радует такая правда, пусть однообразно горьки ответы: расстрелян - реабилитирован, расстрелян - реабилитирован, они все же лучше неизвестности. По крайней мере, они позволяют без прикрас, во всей неприглядности и жестокости представить себе отношение большевистских властей к людям, само имя которых принадлежит истории России.
По материалам Б П Краевского
На фото Князь Дмитрий Михайлович Голицын (1721 - 1793), сын генерал-фельдмаршала кн...
«Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу…».
А.С. Пушкин
В 1721 году Императору Всероссийскому Петру Алексеевичу был определен титул «Великий». Однако в отечественной это было не ново - за тридцать пять лет до Петра I так называли «ближнего боярина, наместника новгородского и государственных посольских дел оберегателя» князя Василия Васильевича Голицына. Эта была во многом загадочная, неоднозначная и неоцененная по достоинству личность. По существу, Голицын опередил время, в эпоху правления Софьи приступив ко многим прогрессивным преобразованиям, подхваченным затем и продолженным Петром I. Современники Василия Васильевича - как друзья, так и недруги, - отмечали, что это был необыкновенно талантливый государственник. Именитый русский историк Василий Ключевский называл князя «ближайшим предшественником Петра». Похожих взглядов придерживался и Алексей Толстой в своем романе «Петр I». Так чем же прославился Голицын на самом деле?
Он появился на свет в 1643 году в одной из именитейших семей России, ведущей свою родословную от литовского князя Гедимина, чей род, в свою очередь, возводился к Рюрику. Василий был третьим сыном князя Василия Андреевича Голицына и Татьяны Ивановны Стрешневой, принадлежавшей к не менее известному княжескому роду Ромодановских. Его предки уже несколько веков служили московским царям, занимали при дворе высокие должности, неоднократно награждались поместьями и почетными чинами. Благодаря стараниям матери он получил отличное домашнее образование по меркам той эпохи. С детства Татьяна Ивановна готовила сына к деятельности на высоких государственных должностях, причем готовила старательно, не жалея ни денег на знающих наставников, ни времени. Молодой князь был начитан, свободно разговаривал на немецком, польском, греческом, латинском языках, хорошо знал военное дело.
В пятнадцать лет (в 1658 году) он, благодаря своему происхождению, а также родственным связям, попал во дворец к государю Алексею Михайловичу, прозванному Тишайшим. Службу при дворе он начал царским стольником. Василий прислуживал за столом государевым, принимал участие в церемониях, сопровождал Алексея Михайловича в поездках. В связи с обострением отношений между России и Турцией в 1675 году Голицын находился вместе с полком на Украине для «сбережения городов от турскаго салтана».
Его жизнь круто изменилась с приходом к власти царя Федора Алексеевича. Вошедший на престол в 1676 году царь пожаловал его из стольников сразу же в бояре, минуя должность окольничего. Случай для того времени редкий, открывший Голицыну, как двери Боярской думы, так и возможности напрямую оказывать влияние на государственные дела.
Уже во время правления Фёдора Алексеевича (с 1676 по 1682) Голицын стал заметной фигурой в правительственном кружке. Он заведовал Владимирским и Пушкарским судными приказами, выделяясь среди остальных бояр своей гуманностью. Современники говорили про юного князя: «умен, учтив и великолепен». В 1676 году, находясь уже в звании боярина, Василий Васильевич был отправлен в Малороссию. Положение на юго-востоке Европы в это время было сложным. Весь груз боевых действий против Крымского ханства и Османской империи лежал на России и Левобережной Украине. Голицыну пришлось возглавить вторую южную армию, защищавшую Киев и южные границы Русского государства от турецкого нашествия. А в 1677-1678 годах он участвовал в Чигиринских походах русского воинства и запорожских казаков.
В 1680 году Василий Васильевич стал командующим всех русских войск на Украине. Искусной дипломатической деятельностью в Запорожье, крымских владениях и ближайших областях османской империи он сумел свести военные действия на нет. Осенью того же года послы Тяпкин и Зотов начали в Крыму переговоры, завершившиеся в январе 1681 Бахчисарайским мирным договором. В конце лета Голицына отозвали в столицу. За удачный исход переговоров царь Федор Алексеевич пожаловал ему огромные земельные владения. Именно с этого момента времени влияние князя Голицына при дворе начало стремительно расти.
Мудрый боярин предложил изменить налогообложение крестьян, организовать регулярную армию, сформировать независимый от всевластия воевод суд, провести обустройство городов русских. В ноябре 1681 года Василий Васильевич возглавил комиссию, получившую от царя указание «ведать ратныя дела для лучшаго своих государевых ратей устроения и управления». По факту, это явилось началом военной реформы, предполагавшей реорганизацию дворянского ополчения в регулярное войско. А в январе 1682 года комиссия выборных дворян, возглавляемая Голицыным, предложила упразднить местничество - «воистину азиатский обычай, возбранявший потомкам за столом сидеть дальше от государя, чем сидели предки их. Обычай этот, здравому смыслу противный, являлся неистощимым источником распрей между боярами, отражаясь на действиях правительства». Уже вскоре разрядные книги, сеявшие раздоры между знатными семействами, были преданы огню.
Болезнь царя Фёдора Алексеевича сблизила Голицына с царевной Софьей - дочерью царя Алексея Михайловича от первого брака. Вскоре к ним примкнул придворный поэт и монах-библиограф Сильвестр Медведев и князь Иван Андреевич Хованский, возглавлявший Стрелецкий приказ. Из этих людей и возникла группа единомышленников - дворцовая партия Софьи Алексеевны. Однако Голицын стоял к царице ближе прочих. По словам историка Валишевского: «Медведев воодушевлял группу, заражал всех жаждой борьбы и страстностью. Хованский предоставил необходимую вооружённую силу - волнующийся полк стрельцов. Однако любила Софья Голицына…. Она втянула его на дорогу, ведущую к власти, власти, которую хотела делить с ним». К слову, Василий Васильевич - образованнейший для своего времени человек, свободно владеющий основными европейскими языками, разбирающийся в музыке, увлекающийся искусством и культурой, аристократичный - был весьма хорош собою и обладал, по отзывам современников, пронзительным, чуть хитроватым взглядом, придававшим ему «большую оригинальность». Доподлинно неизвестно были ли отношения между царской дочерью и красавцем-боярином взаимными. Злые языки утверждали, что Василий Васильевич сошёлся с ней только ради выгоды. Хотя, возможно, и Голицыным руководил не один лишь голый расчёт. Общеизвестный факт, что Софья не являлась красавицей, однако не была она и угрюмой, толстой, непривлекательной бабой, какой является взору на знаменитой картине Репина. По запискам современников царевна привлекала обаянием молодости (тогда ей шел 24 год, а Голицыну было уже под сорок), жизненной энергией, бьющей через край, и острым умом. Так и осталось неизвестным, были ли у Василия и Софьи общие дети, но некоторые исследователи уверяют, что были, их существование держалось в строжайшем секрете.
После шести лет правления, в апреле 1682 года умер царь Федор Алексеевич. Вокруг Софьи собрались придворные, занявшие сторону Милославских, являющихся родственниками её матери. Им в противовес сформировалась группа сторонников Нарышкиных - родственников второй супруги царя Алексея Михайловича и матери Петра I. Они и провозгласили новым царем маленького Петра в обход его старшего брата Ивана, который с рождения был болезненным и, как следствие, считался неспособным к управлению. Фактически вся полнота власти перешла к клану Нарышкиных. Однако торжествовали они не долго. В середине мая 1682 в Москве начался стрелецкий бунт. Сторонники Милославских использовали недовольство стрельцов, направив их ярость на своих политических противников. Многие виднейшие представители рода Нарышкиных, а также их сторонники были убиты, а хозяевами положения сделались Милославские. Первым Государем российским был провозглашен шестнадцатилетний царевич Иван, а вторым - Пётр. Однако по причине малолетства братьев управление государством приняла на себя Софья Алексеевна. Регентство царевны (с 1682 по 1689 год), в котором Василий Васильевич занимал ведущее положение, осталось ярким явлением в истории нашей страны. Князь Куракин - свояк и шурин Петра I (а, следовательно, противник царевны) оставил в своих дневниках интересный отзыв: «Правление Софьи Алексеевны началось с всякою прилежностью и правосудием всем и ко удовольству народному…. Во время правления ее все государство пришло в цвет великого богатства, умножились всякие ремесла и коммерция, и науки почали быть восставлять греческого и латинского языку…».
Сам Голицын, будучи политиком весьма осторожным, не принимал никакого участия в дворцовых интригах. Однако уже к концу 1682 года в руках его сосредоточилась практически вся государственная власть. Боярин был пожалован в дворцовые воеводы, возглавил все основные приказы, включая Рейтарский, Иноземный и Посольский. По всем делам Софья советовалась в первую очередь с ним, а у князя появились возможности осуществить многие из своих задумок. В документах сохранилась запись: «И тогда ж царевна София Алексеевна князя Василия Васильевича Голицына дворовым воеводою назначила и учинила первым министром и судьею Посольского приказу…. И почал быть первым министром и фаворитом и был персоной изрядной, ума великого и любим от всех».
За семь лет Голицын успел сделать для страны много полезного. Первым делом князь окружил себя опытными помощниками, причем выдвигал он людей не по «породе», а по годности. При нем в стране получило развитие книгопечатание - с 1683 по 1689 годы было издано сорок четыре книги, что для той эпохи считалось немалым. Голицын покровительствовал первым профессиональным писателям Руси - Симеону Полоцкому и уже вышеупомянутому Сильвестру Медведеву, который был позднее казнён Петром, как сподвижник Софьи. При нем появилась светская живопись (портреты-парсуны), а также достигла нового уровня иконопись. Василий Васильевич радел о становлении образовательной системы в стране. Именно при его активном участии в Москве открылась Славяно-греко-латинская академия - первое отечественное высшее учебное заведение. Свой вклад князь внёс и в смягчение уголовного законодательства. Был отменён обычай закапывать мужеубийц в землю и казнь за «возмутительные слова против власти», а также облегчены условия холопства за долги. Все это возобновилось уже при Петре I.
Широкие планы строил Голицын и в сфере социально-политических реформ, высказывая мысли о коренных преобразованиях государственного строя. Известно, что князь предлагал заменить крепостное право наделением крестьян землей, разрабатывал проекты освоения Сибири. Ключевский с восхищением писал: «Подобного рода планы разрешения крепостного вопроса вернулись в государственные умы в России не раньше чем через полтора столетия после Голицына». В стране была проведена финансовая реформа - вместо множества налогов, тяжким бременем лежавших на населении, был установлен один, собираемый с определённого числа дворов.
С именем Голицына было связано и улучшение военной мощи державы. Выросло количество полков, как «нового», так и «иноземного» строя, стали формироваться драгунские, мушкетёрские, рейтарские роты, служившие по единому уставу. Известно, что князь предлагал ввести заграничное обучение дворян военному искусству, убрать даточных рекрутов, которыми пополняли дворянские полки, набирая из непригодных к военному ремеслу тяглых людей и холопов.
Василию Васильевичу также приписывают организацию строительства в столице трёх тысяч новых каменных домов и палат для присутственных мест, а также деревянных мостовых. Самым впечатляющим стало сооружение знаменитого Каменного моста через Москву-реку, ставшего «одною из диковинок столичных, наравне с Сухаревой башней, Царь-пушкою и Царь-колоколом». Это сооружение оказалось настолько дорогостоящим, что в народе возникла поговорка: «Дороже Каменного моста».
Однако «великим Голицыным» князя прозвали из-за его успехов на дипломатическом поприще. Внешнеполитическая обстановка к началу 1683 года для России была сложной - натянутые отношения с Речью Посполитой, подготовка к новой войне с Османской империей, вторжение в русские земли крымских татар (летом 1682). Под руководством князя Посольский приказ наладил, а затем поддерживал связи со всеми европейскими государствами, империями и ханствами Азии, а также тщательно собирал сведения об африканских и американских землях. В 1684 году Голицын умело провел переговоры со шведами, продлив Кардисский мирный договор 1661 года без отказа от временно уступленных территорий. В том же году был заключен крайне важный договор с Данией о посольском церемониале, поднимавший международный престиж обеих держав и отвечающий новому положению нашей страны на мировой арене.
К этому времени в Европе организовалась Священная лига христианских государств, которую номинально возглавил Папа Римский Иннокентий XI. Странами-участниками было принято решение о ведении коалиционной войны с Османской империей, отклонение любых сепаратных договоров с врагом и вовлечение в союз государства Российского. Опытные европейские дипломаты прибыли в Россию, жаждая продемонстрировать на «московитах» свое искусство. Послы были крайне неосмотрительны, выдав нелояльное отношение своих правительств к интересам России, когда предложили Василию Васильевичу во избежание конфликтов с Речью Посполитой отдать ей Киев. Ответ Голицына был категоричным - передача на польскую сторону Киева невозможна, ибо его население выразило желание оставаться в российском подданстве. Кроме того Речь Посполитая по Журавинскому миру уступила Оттоманской Порте все Правобережье, а Порта по Бахчисарайскому миру признала Запорожье и Киевщину владениями России. Василий Васильевич выиграл переговоры, спустя некоторое время Папа Римский признал за Россией статус великой державы и согласился помочь в заключении мира с Речью Посполитой.
Переговоры с Польшей были затяжными - семь недель спорили дипломаты. Неоднократно послы, не соглашаясь с предложениями русских, собирались уезжать, однако затем снова возобновляли диалог. В апреле 1686 года Василий Васильевич, «проявив большое искусство», ловко используя противоречия между Турцией и Польшей, дипломатические и военные неудачи Яна Собеского, сумел заключить долгожданный и выгодный для нашей страны «вечный мир» с Польшей (Речью Посполитой), положив конец столетним раздорам между двумя славянскими государствами. Поляки навсегда отказались от своих претензий на Киев, Левобережную Украину, города на правом берегу (Стайки, Васильков, Триполье), а также Северскую землю и Смоленск вместе с окрестностями. Московское государство в свою очередь вступило в союз европейских держав, приняв участие в коалиционной борьбе с Турцией вместе с Венецией, Германской империей и Польшей. Значение договора было так велико, что после его подписания Софья Алексеевна стала именовать себя самодержицей, хотя и не посмела венчаться официально на царство. А Голицын впоследствии также возглавил русскую делегацию, прибывшую на переговоры с китайцами. Они завершились ратификацией Нерчинского договора, установившего по реке Амур русско-китайскую границу и открывшему России путь к экспансии Тихого океана.
Владение основными европейскими языками позволяло князю свободно разговаривать с иноземными послами и дипломатами. Стоит отметить, что иностранцы до семнадцатого века вообще предпочитали не рассматривать русских как культурную и цивилизованную нацию. Своей неутомимой деятельностью Василий Васильевич сильно пошатнул, если не разрушил, данный устоявшийся стереотип. Именно во время его руководства страной на Русь в буквальном смысле хлынули потоки европейцев. В Москве расцвела Немецкая слобода, где находили пристанище иностранные военные, ремесленники, лекари, художники и т.д. Голицын сам приглашал в Россию известных мастеров, искусников и учителей, поощряя внедрение иностранного опыта. Иезуитам и гугенотам было позволено укрываться в Москве от конфессиональных гонений у себя на родине. Жители столицы также получили разрешение приобретать за рубежом светские книги, предметы искусства, мебель, утварь. Все это сыграло значимую роль в культурной жизни общества. Голицын не только разработал программу свободного въезда в Россию чужеземцев, но также собирался ввести в стране свободное вероисповедание, постоянно твердил боярам о надобности учить своих детей, выхлопотал разрешение отправлять боярских сыновей на обучение за границу. Петр, посылая учиться дворянских отпрысков, лишь продолжил начатое Голицыным.
Для послов и многочисленных дипломатических делегаций Василий Васильевич любил устраивать специальные приемы, поражая приезжих роскошью и блеском, демонстрирующей силу и богатство России. Ни во внешнем виде, ни в обращении Голицын не хотел уступать министрам могущественнейших европейских держав, считая, что расточительность окупается впечатлением, оказываемым на партнеров по переговорам. По отзывам современников, послы, отправлявшиеся в Московию, никак не были готовы встретить там столь учтивого и образованного собеседника. Князь умел внимательно выслушать гостей и поддержать беседу на любые темы, будь то богословие, история, философия, астрономия, медицина или военное дело. Голицын просто подавлял иноземцев своею осведомленностью и образованностью. Помимо официальных приемов и переговоров, князь ввел неофициальные встречи с дипломатами в «домашней» обстановке. Один из приезжих послов писал: «Диковатых московитских бояр мы уже успели насмотреться. Они были тучны, угрюмы, бородаты и не знали других языков, кроме свиных и говяжьих. Князь Голицын же был европейцем в полном смысле слова. Носил короткие волосы, брил бороду, подстригал усы, владел многими языками…. На приёмах не пил сам и не заставлял пить, удовольствие находил только в беседах, в обсуждении последних новостей в Европе».
Нельзя не отметить голицынские нововведения в сфере моды. Еще при государе Фёдоре Алексеевиче под непосредственным влиянием Голицына все чиновники были обязаны вместо долгополых старомосковских одежд носить венгерские и польские платья. Также рекомендовалось брить бороды. Не приказывалось (как впоследствии при авторитарном Петре), а всего лишь рекомендовалось, чтобы не вызывать особых смут и протестов. Современники писали: «На Москве бороды стали брить, волосы стричь, польские кунтуши и сабли носить». Сам князь тщательно следил за своим внешним видом, прибегал к косметическим средствам, пользование которыми сегодня мужчинам кажется смешным - белился, румянился, холил остриженные по последней моде бороду и усы разными специями. Вот как описал внешность Василия Васильевича А.Н. Толстой в романе «Пётр I»: «Князь Голицын - писаный красавец, стрижен коротко, вздёрнутые усы, бородка кудрявая с проплешинкой». Его гардероб входил в число самых богатых в столице - он включал более сотни костюмов из дорогих тканей, украшенных изумрудами, рубинами, алмазами, закатанных серебряным и золотым шитьём. А каменный дом Василия Васильевича, стоявший в Белом городе между улицами Дмитровкой и Тверской, иноземные гости называли «восьмым чудом света». Длина здания составляла более 70 метров, в нём было больше 200 оконных затворов и дверей. Крыша здания была медная и сверкала на солнце, подобно золотой. Рядом с домом стоял домовой храм, во дворе находились кареты голландского, австрийского, немецкого производства. По стенам залов висели иконы, гравюры и картины на темы Священного писания, портреты отечественных и европейских правителей, географические карты в позолоченных рамах.
Потолки были украшены астрономическими телами - знаками Зодиака, планетами, звездами. Стены палат были обиты богатыми тканями, многие окна украшены витражами, простенки между окнами заставлены огромными зеркалами. В доме имелось множество музыкальных инструментов и мебели художественной работы. Воображение поражал венецианский фарфор, немецкие часы и гравюры, персидские ковры. Один заезжий француз писал: «Княжеские палаты ничем не уступали домам парижских вельмож…. Обставлены они были ничуть не хуже, превосходили их количеством живописных полотен и, особенно, книгами. Ну и приборами различными - термометрами, барометрами, астролябией. Ничего похожего у моих сиятельных парижских знакомцев не водилось». Сам хлебосольный хозяин всегда держал дом открытым, любил принимать гостей, часто устраивал театральные действа, выступая в роли актёра. От подобного великолепия нынче, к сожалению, не осталось и следа. В последующие века голицынский дом-дворец переходил из рук в руки, а в 1871 был продан купцам. Через некоторое время это была уже самая натуральная трущоба - в бывших беломраморных палатах хранили бочки с сельдью, резали кур и складировали всякие тряпки. В 1928 году дом Голицына снесли.
Помимо прочего, Василий Васильевич упоминается в исторической литературе как один из первых отечественных галломанов. Однако князь предпочитал заимствовать не только внешние формы иноземной культуры, он проникал в глубинные слои французской - и еще шире - европейской цивилизации. Ему удалось собрать одну из богатейших для своей эпохи библиотек, отличавшуюся разнообразием печатных и рукописных книг на русском, польском, французском, немецком и латинском языках. В ней имелись копии «Алкорана» и «Киевского летописца», сочинения европейских и античных авторов, разные грамматики, немецкая геометрия, труды по географии и истории.
В 1687 и 1689 годах Василий Васильевич участвовал в организации военных походов против крымского хана. Понимая сложность данных предприятий, сибарит по натуре, князь пытался уклониться от обязанностей командующего, однако Софья Алексеевна настояла на том, чтобы он отправился в поход, назначив его на должность военачальника. Крымские походы Голицына следует признать чрезвычайно неудачными. Искусный дипломат, к сожалению, не обладал ни знаниями опытного воеводы, ни талантом полководца. Возглавляя вместе с гетманом Самойловичем стотысячное войско в ходе первой военной кампании, осуществленной летом 1687 года, он так и не сумел достичь Перекопа. Из-за недостатка фуража и воды, нестерпимой жары русское войско понесло значительные небоевые потери и было вынуждено уйти из выжженных крымчаками степей. Вернувшись в Москву, Василий Васильевич использовал все возможности, дабы укрепить международное положение рассыпающейся Священной лиги. Послы его работали в Лондоне, Париже, Берлине, Мадриде, Амстердаме, Стокгольме, Копенгагене и Флоренции, пытаясь привлечь новых членов в Лигу и продлить хрупкий мир.
Через два года (весной 1689) была предпринята новая попытка добраться до Крыма. На сей раз отправили войско численностью свыше 110 тысяч человек при 350 пушках. Руководство этой кампанией опять было поручено Голицыну. На землях Малороссии к русскому войску присоединился новый украинский гетман Мазепа вместе со своими казаками. С трудом пройдя степи и одержав верх в сражениях с ханом, русское воинство добралось до Перекопа. Однако князь так и не решился перебраться на полуостров - по его словам вследствие нехватки воды. Несмотря на то, что второй поход также закончился неудачей, свою роль Россия выполнила в войне - 150-тысячная армия крымских татар была скована в Крыму, что дало Священной лиге возможность довольно ощутимо потеснить турецкие силы на европейском театре.
После возвращения Василия Васильевича из похода его положение при дворе сильно пошатнулось. В обществе зрело раздражение от неуспехов в Крымских походах. Партия Нарышкиных открыто обвиняла его в нерадении и получении взяток от крымского хана. Один раз на улице на Голицына бросился убийца, однако был вовремя схвачен охраной. Софья Алексеевна, чтобы хоть как-то оправдать фаворита, устроила роскошный пир в его честь, а вернувшиеся из похода русские войска были встречены как победители и щедро награждены. У многих это вызвало еще большее недовольство, к поступкам Софьи даже близкое окружение стало относиться настороженно. Популярность Василия Васильевича постепенно ослабевала, а у царевны появился новый фаворит - Фёдор Шакловитый, к слову, выдвиженец Голицына.
К этому времени уже подрос и Петр, обладавший чрезвычайно упрямым и противоречивым характером, не желающий больше слушать свою властную сестру. Он часто перечил ей, упрекал в излишней смелости и самостоятельности, не присущей женщинам. В государственных документах также говорилось, что регентша утрачивает возможность управления государством в случае женитьбы Петра. А у наследника к тому времени уже имелась супруга Евдокия. Семнадцатилетний Петр стал для царевны опасен, и опять она решила использовать стрельцов. Однако в этот раз Софья Алексеевна просчиталась - стрельцы ей уже не верили, отдавая предпочтение наследнику. Сбежав в село Преображенское, Петр собрал своих сторонников и, не медля, взял власть в свои руки.
Падение Василия Васильевича стало неизбежным следствием низложения властолюбивой царевны Софьи, заключённой своим сводным братом в монастырь. Хотя Голицын никогда не принимал участия ни в стрелецких бунтах, ни в борьбе за власть, ни, тем более, в заговорах об убийстве Петра, его конец был предрешён. В августе 1689 во время переворота он уехал из столицы в свое имение, а уже в сентябре вместе со своим сыном Алексеем прибыл к Петру в Троицу. По воле нового царя у ворот Троице-Сергиева монастыря 9 сентября ему зачитали приговор. Вина князя заключалась в том, что он сообщал о делах державы Софье, а не Ивану и Петру, имел наглость писать грамоты от их имени и печатать в книгах имя Софьи без царского соизволения. Однако основным пунктом обвинения стали неудачные Крымские походы, принесшие казне великие убытки. Любопытно, что немилость Петра за крымские неудачи легла лишь на одного Голицына, а, например, такой видный участник походов, как Мазепа, наоборот, был обласкан. Однако даже Пётр I признавал заслуги князя, питал уважение к поверженному врагу. Нет, соратником молодого царя в делах переустройства России Василию Васильевичу стать было не суждено. Но и жестокой казни, подобно другим клевретам Софьи, он предан не был. Князя и его сына лишили боярского титула. Все его поместья, вотчины и прочее имущество было отписано на государя, а ему самому вместе с семьей повелели отправляться на север в Архангельский край «на вечное житье». Согласно царскому указу опальным дозволялось иметь лишь самое необходимое имущество не более чем на две тысячи рублей.
К слову, у Василия Васильевича имелся двоюродный брат, Борис Алексеевич Голицын, с которым он был очень дружен с раннего детства. Эту дружбу они пронесли через всю жизнь, не раз помогая друг другу в сложных ситуациях. Пикантность обстоятельства заключалась в том, что Борис Алексеевич всегда был в клане Нарышкиных, что, однако, никак не влияло на его отношения с братом. Известно, что после падения Софьи Борис Голицын пытался оправдать Василия Васильевича, попав даже на непродолжительное время в немилость к царю.
Уже после того, как Голицын вместе со своей семьей уехал в ссылку в город Каргополь, в столице было предпринято несколько попыток ужесточить наказание опального князя. Однако Борису удалось защитить брата, которому повелели перебраться в село Еренск (в 1690 году). Туда ссыльные добрались глубокой зимой, однако и в этом месте им было не суждено остаться. Обвинения против Василия Голицына множились, и к весне поступил новый указ - сослать бывшего боярина и его семью в Пустозерский острог, расположенный в дельте реки Печоры и учинить им жалованье «поденного корма по тринадцать алтын по две деньги на день». Усилиями Бориса Голицына наказание снова удалось смягчить, вместо дальнего острога Василий Васильевич оказался в деревеньке Кеврола, стоящей на далекой северной речке Пинеге примерно в двухстах километрах от Архангельска. Последним же местом его ссылки стал поселок Пинега. Здесь князь вместе со своей второй супругой - Евдокией Ивановной Стрешневой и шестерыми детьми провел остаток своей жизни. Из ссылки он неоднократно посылал царю челобитные, прося, нет, не помилование, лишь увеличение денежного содержания. Однако Петр свое решение не изменил, хотя и закрывал глаза на посылки, отправляемые опальному боярину его тещей и братом. Также известно, что Борис Алексеевич, как минимум однажды навестил брата, в ходе поездки царя в Архангельск. Разумеется, без разрешения Петра I сделать подобное было немыслимо.
Со временем жизнь Василия Васильевича нормализовалась. Благодаря родственникам деньги у него имелись, а зная о влиятельном брате, местные власти относились к нему с почтением и делали всевозможные послабления. Он получил разрешение на посещение Красногорского мужского монастыря. Всего в северной глухомани Василий Васильевич прожил долгие двадцать пять лет, 2 мая 1714 года Голицын скончался и был похоронен в православном монастыре. Вскоре после этого Петр простил его семью и разрешил вернуться в Москву. В настоящее время Красногорско-Богородицкий монастырь является недействующим и полностью разрушен. К счастью, надгробие князя сумели спасти, ныне оно лежит в местном музее. На нем написано: «Под камнем сем погребено тело раба Божьего князя московского В.В. Голицына. Скончался 21 дня апреля от роду 70 лет».
Сподвижники Петра I попытались сделать всё, чтобы этот харизматический деятель и первый министр ненавистной новому царю сестры-регентши, был предан забвению. Однако звучали и другие мнения. О князе Василии высоко отзывались ревностные приверженцы Петра Франц Лефорт и Борис Куракин. Администрация Голицына получила высокие оценки от искушённой в политике императрицы Екатерины II. Одним из первых на Руси князь не только предложил план перестройки традиционного уклада государственной жизни, но и перешел к практическому реформированию. И многие начинания его не пропали втуне. Вольно или невольно петровские реформы явились воплощением и продолжением идей и задумок Василия Голицына, а победы его во внешних делах на долгие годы определили политику России.
По материалам книг: Л.И. Бердникова «Великий Голицын» и В.О. Ключевского «Князь Василий Васильевич Голицын».